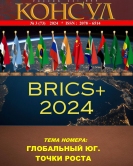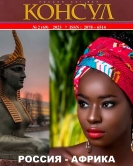Израильская проза

Сегодня мы представляем нашим читателям переводы небольших прозаических текстов, принадлежащих перу двух известных израильских писателей.
ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
ШМУЭЛЬ ИОСЕФ АГНОН
Перевод с иврита и комментарии:
Семен Якерсон
Был канун субботы 1. Отца в городе не было. Он уехал в другой город по делам, а меня оставил сторожить лавку. Остался я в лавке один, будто и впрямь сторож. Когда бóльшая часть дня миновала, я сказал себе: «Пора запирать лавку, и впрямь запру-ка я лавку, пойду домой, сменю одежду и отправлюсь в молельный дом».
Достал я из укромного места ключи и вышел запереть лавку. Подошли три монаха 2 с непокрытыми головами, в сандалиях и тяжелых черных одеждах и сказали: «Мы хотим поговорить».
Подумал я про себя, что если по торговым делам они пришли, то уже сумерки, скоро наступит суббота — и время это вовсе не подходит для торговли, если же ради беседы они пришли, то в канун субботы я им не собеседник.
Увидели они, что я медлю с ответом, и улыбнулись.
Сказал один из них: «Не бойся, мы пришли не для того, чтобы задерживать тебя, ведь тебе надо идти в синагогу».
А товарищ его добавил: «Посмотри на небо3, и увидишь, что солнце еще не зашло и времени у нас довольно».
Третий же кивнул в знак согласия и повторил те же слова. Не то повторил их в точности, не то чуть изменив.
Я запер лавку и пошел с ними.
Так получилось, что мы оказались около нашего дома.
Поднял один из монахов левую руку и спросил: «Не тут ли твой дом?»
Подтвердил его товарищ: «Тут его дом».
Третий же добавил: «Конечно, тут его дом, тут дом его». И с этими словами тремя перстами указал на дом моего отца.
Я сказал им: «Если хотите, мы можем войти».
Они закивали согласно: «С твоего позволения».
У дома отца моего было два входа. Один с улицы, на которой располагалась лавка, а другой с переулка, в котором была молельня4. В обычные дни оба входа были открыты, но в канун субботы, с наступлением сумерек, закрывали вход, выходивший на улицу, оставляя открытым тот, что вел к молельне. Мы прошли всю улицу, спустились вниз и обошли дом с обратной стороны.
Я открыл дверь и ввел монахов в гостиную, усадил их на стулья, которые стояли близ стола, уже накрытого к субботней трапезе.
Они расселись, и их длинные сутаны укрыли сандалии и упали на ковер, который постелила мать в честь субботы, ибо был у нее обычай в честь субботы стелить ковер.
И так сели они. Самый старший из них, тучный человек, сел во главе стола, а два его товарища — по бокам от него: один, тощий и длинный, с редкими волосами и приметным синяком на голове — в том месте, которое монахи обычно выбривают, а второй — без каких-либо особенностей, кроме неприятно большого кадыка. А я, где сидел я? Не сидел, но стоял. И это, собственно, понятно. Тот, в чей дом пришли, а время поджимает, — стоит, не сидит.
Они заговорили, я же молчал. Но когда они спросили про две субботние свечи, стоящие на столе: «Вас ведь трое, ты, твой отец и твоя мать, так почему же твоя мать не зажигает свечу и за сына?» — я ответил им, что мама завела такой обычай с первой субботы после свадьбы, с той поры в обычае у нее зажигать лишь две свечи.
Они стали высказывать различные суждения о свечах.
Я сказал им: «Ваши суждения неверны: одна свеча для Писания, и одна для Предания5, которые едины, как и свечи субботние, называемые «субботняя свеча». Но вижу я, что прекрасно вы разбираетесь в наших обычаях».
Они заулыбались, но улыбки умерли в складках кожи.
Тот, которого я назвал третьим, сказал: «Нет ничего удивительного в том, что мы хорошо знаем еврейские обычаи, ведь мы принадлежим к ордену…»
Мне показалось, что он назвался доминиканцем, но поскольку у доминиканцев не принято вне службы ходить в монашеской одежде, а они были одеты в сутаны, то, возможно, он назвал имя другого ордена, просто кадык сглотнул сказанное.
Из-за беседы я отвлекся и перестал следить за временем, забыв, что человеку вне службы должно готовиться к субботе, и даже попросил женщину, помогающую по дому, принести угощение.
Она принесла субботние яства, а я достал графинчик водки и поставил перед монахами.
Они ели, пили и беседовали. Поскольку я держал в уме время, то не слушал, о чем шел разговор.
Два-три раза мне казалось, что время субботы наступает, но когда я выглядывал в окно, то видел, что солнце стоит недвижимо — с той поры, как встретились мне эти монахи. Вряд ли это было наваждение: ведь я неоднократно в беседе упоминал имя Господне. Но вряд ли я и ошибался, поскольку служка еще не созывал к молитве. Все же это не могло не вызывать удивления: ведь когда пришли монахи, солнце уже шло к закату, а с тех пор они и ели, и пили, и вели беседы, однако солнце все еще стояло на прежнем месте, да и часы будто остановились. Может, из-за встречи с монахами я не завел их на субботу, но все одно — завода наших часов было еще вполне достаточно.
Вошла мама, чтобы зажечь субботние свечи.
Монахи поднялись со своих мест, собираясь уходить.
Я вышел, дабы проводить их.
Вдруг один из них с неожиданной силой толкнул меня.
Я впал в совершеннейшую растерянность.
После всего того уважения, которое я оказал монахам, один из них так поступил со мной, а товарищи его все видели и не попеняли ему за это.
Я не стал возвращаться, чтобы мама не увидела, что приключилось со мной, но и в молитвенный дом не пошел тоже. Ведь прикосновение руки злосчастного монаха осквернило меня, и пока бы я спешил очиститься, молитва бы уже закончилась.
Я стоял в нерешительности, не двигаясь ни туда и ни сюда.
Подошли два молодых послушника и спросили меня: «Куда пошли Отцы?»
Я выслушал их и оцепенел: и этих людей они называют «Отцы»? И покуда я приходил в себя, один из послушников прямо на глазах моих исчез, а товарищ его остался.
Я стоял, испуганный и недоумевающий, а он стоял, как будто не произошло ничего особенного.
Я оглядел послушника внимательно и увидел, что он очень молод и ростом с подростка. Глаза — черные, и если бы не запрещающая заповедь «не щади их и не будь к ним благосклонен»6, я бы сказал, весьма красивые и милые, и кожа на лице гладкая, без малейших признаков волос.
Он был похож на прекрасного еврейского отрока — из тех, что еще не вкусили греха, из тех, что раньше встречались во всех еврейских городках. Было в нем что-то особенное, что только добавляло прелести к его необъяснимой красоте.
Я стоял и нарочно затягивал разговор, чтобы получше рассмотреть прекрасного послушника7.
Во время беседы я положил ему руку на плечо и спросил: «Послушай, братец, а не еврей ли ты?»
Всей душой и всем телом ощутил я, как дрогнули его плечи под моей рукой, как увлажнились глаза его, когда он склонил голову, и как затрепетало сердце его.
Я с настойчивостью повторил свой вопрос: «Скажи мне, не еврей ли ты?»
Он поднял блистающие глаза и ответил: «Я еврей».
Тогда я спросил: «Коли ты еврей, то что ты делаешь у монахов?»
Он стыдливо потупился и замолчал.
Я продолжал спрашивать: «Кто ты и откуда родом?»
Он стоял заперев уста.
Тогда я приблизил свои уста к его устам, и губы мои обратились в слух.
Он снова поднял голову, и я почувствовал, как часто бьется его сердце.
Мое сердце затрепетало тоже.
Он поднял на меня свои черные, дивные глаза и посмотрел с такой любовью, с таким глубоким доверием, с такой искренней печалью, но главное — с таким огромным страданием, как человек, который сдерживается из последних сил, чтобы не высказать ненароком сокровенной тайны своего сердца.
Я терялся в догадках: что же все это такое?
Так мы простояли какое-то время, но он так и не открылся мне.
Я снова обратился к нему: «Тебе так тяжело сказать мне, откуда ты родом?»
Он прошептал мне название родного города.
Я спросил его: «Если я не ошибся, то ты из Лыковичей? 8»
Он кивнул головой.
Я сказал ему: «Если ты из Лыковичей, ты конечно знаешь лыковичевского цадика9 (тогда глав хасидских общин10 называли цадиками). Однажды в Новый год11 я молился в его молельне, когда он вел службу. И когда он дошел до гимна «И придут все, дабы служить тебе»12, мне показалось, что я слышу топот ног всех народов, что не признают Израиля и Отца их небесного. И мне почудилось, что я вижу, как они торопятся к службе. А когда он провозгласил «И познают заблудшие мудрость», я увидел как наяву, будто все они единодушно склоняются, дабы служить Господу13 Саваофу, Богу Израиля. Но о чем ты печалишься, братец?»
Послушник содрогался в рыданиях.
Я снова спросил его: «О чем плачешь ты?»
Слезы наполнили глаза его.
Смахнул он слезы и, всхлипывая, молвил: «Я дочь его, его младшая дочь, дочь старости его».
Мое сердце переполнилось нежностью и печалью, я прильнул к ее губам, и губы ее ответили мне. И сладчайшей прелести было полно это слияние. Такое на святом языке называют проникновенным поцелуем (или поцелуем в губы), и, видимо, все прочие языки именуют такой поцелуй сходным обычаем.
Что до меня, то это был первый мой поцелуй. И я почти уверен, что и для нее был первым этот поцелуй. Поцелуй девственников, в котором еще нет боли, но одно только упоение, и благословение, и жизнь, и красота, и нежность, в которых мужчина и женщина счастливо живут до глубокой старости.
Комментарии:
1 Евреи используют лунно-солнечный календарь, в котором отсчет суток начинается с захода солнца. Субботний день, являющийся важнейшим иудейским праздником, начинается в пятницу вечером после захода солнца. Соответственно, действие рассказа происходит во второй половине дня в пятницу.
2 В ориг. — кемарим («священники»), но из дальнейшего повествования становится понятно, что имеются в виду именно монахи.
3 В оригинале прямая цитата из Библии (Быт. 15 : 5), из обращения Бога к Авраму. В этом эпизоде Бог обещает бездетному Авраму потомство. В этом же отрывке трижды обыгрывается число три: Бог для подтверждения своих слов велит Авраму принести ему жертву, состоящую из трехлетней телицы, трехлетней козы и трехлетнего барана (там же, стих 9).
4 В ориг. «бейт мидраш», одна из разновидностей иудейского религиозного учреждения, которая могла совмещать функции религиозной академии и молельни одновременно. До некоторой степени сходна с мусульманским медресе.
5 В оригинале «Тора ше-би-хтав» («Письменный Закон») и «Тора ше-бе-ал пе» («Устный Закон»). Согласно иудаистической традиции, Бог передал Моисею на горе Синай весь Закон в двух частях, одна из которых была записана в книгах Пятикнижия (древнеевр. Тора), а вторая передавалась устно из поколения в поколение и была записана значительно позже, в VIII в. н. э. в Талмуде.
6 Иудаизм насчитывает 613 разрешительных и запретительных заповедей. Здесь имеется в виду 50-я заповедь из раздела запрещающих (Не щадить идолопоклонников, ибо сказано «не щади их» (Втор. 7 : 2). В бытовой практике это выражалось в запрете на восхищение внешними прелестями неевреев).
7 Ср. комментарий Раши к 13-му стиху из 9-й главы Первой кн. Самуила: « [Девицы нарочно] затягивали разговор, чтобы получше всмотреться в красоту Саулову».
8 Название городка, как это часто бывает у Агнона, вымышленное. Во всяком случае, идентифицировать его не удалось.
9 Цадик (иврит) — праведник, духовный вождь хасидской общины.
10 В ориг. употреблена аббревиатура «адмор»: наш господин, учитель и законоучитель.
11 Рош ха-Шана — еврейский Новый год, празднуется в диаспоре два дня, 1–2 тишрея (выпадает на август–сентябрь).
12 Молитва, читаемая в еврейский Новый год и День отпущения грехов (Йом ха-Киппурим).
13 В ориг. парафраз из кн. пророка Софонии 3 : 9: «Дабы служить ему единодушно».
 СПРАВКА
СПРАВКА
Шмуэль Иосеф (Шай) Агнон (1887, Бучач, Австро-Венгрия — 1970, Иерусалим, Израиль) — выдающийся израильский прозаик, безусловный классик современной ивритской литературы, автор ряда романов, множества рассказов и эссе. Агнон — первый писавший на иврите и идише (причем на иврите пока единственный) писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе. Премию он получил в 1966 году «за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами». Немало произведений Агнона переведены на русский. Однако рассказ «Первый поцелуй» (1963), не включенный в собрание сочинений классика, почти неизвестен даже израильской читательской аудитории. На русском языке рассказ был издан в 2006 году издательством «Петербургское востоковедение» в подарочном варианте тиражом 100 экземпляров.
ЖИЗНЬ КАК ПРИТЧА
(отрывок из романа)
ПИНХАС САДЕ
Перевод с иврита:
Наталья Цымбалова
Проходит день, а ночь (как Яаков, держащийся за пятку Эсава) приходит. И ночь проходит; приходит день. День и ночь. Ночь и день.
А я слушаю молчание земли. Я ступаю по улицам, которые постепенно пустеют. Я ступаю медленно, потому что молчание земли ужасает меня и как будто наливает свинцом ступни моих ног, и он тянет меня вниз, вниз. Кто сможет понять, какой тайный страх сокрыт в бытии земли — просторной, огромной, тяжелой, замкнутой, ночной, молчаливой, — земли, по которой ходят!
Я продолжаю слушать молчание земли, и даже какие-то человеческие голоса я слышу вокруг себя, но знаю я, что они всего лишь случайность. Ведь нет у них подлинной сущности. Я ступаю по ночным улицам медленно-медленно. Руки в карманах, и пальто хорошо застегнуто. Есть места, тронутые желтоватым светом фонарей; есть места, лишенные света.
Передо мной шагают пятеро парней. Куда они идут? Не знаю. Двое, что с каждой стороны, — высокие, и на них серые пальто, а средний — маленького роста и в коричневом пальто, и он похож на женщину.
А вот мужчина шагает один. Его фигура сутулая, шаги неуверенные. Он страшится вернуться в свою темную комнату, на холодные простыни.
Вот мужчина и женщина идут под руку. Женщина положила свою золотистую голову на плечо своего мужчины и тихонько напевает. Голос ее — теплый и счастливый.
Время проходит.
Время проходит, и я прохожу вместе с ним. Зачем мне беспокоиться? В то место, куда придет время, туда приду и я.
Старик — маленький, в большой шляпе — обращается ко мне и просит, чтобы я купил чего-нибудь — кажется, яблок. Он протягивает их мне в бумажном пакете и говорит мягким, умоляющим голосом:
— Очень хорошие яблоки, господин. Яблоки.
Но я… мне не для кого их покупать. Одинокий я человек, без жены и детей, без сестры. Человек, слушающий молчание земли.
Но брат и друг я всякому человеку: торговцу, нищему, путнику. Несмотря на то, что никто не понимает мой язык, несмотря на то, что голос мой — глас вопиющего в пустыне. Я уже не злюсь на это, потому что с тех пор, как я злился, прошло время, и я начал слушать молчание земли. А тот, кто слушает его, больше не будет злиться.
Поэтому брат я всем нищим духом, и когда придет царство небесное, может быть, будет позволено мне сидеть среди них.
Когда придет царство небесное, разверзнет земля свои уста и затянет песнь хвалы вместе со всеми творениями — с ветром, и солнцем, и звездами, с лошадями, травами, дождем, ангелами. Когда придет царство Всевышнего, истечет срок молчания земли.
Все же мне очень жаль, что меня не понимали. Потому что кто знает? Может быть, послан я, чтобы сказать некие слова, в которых как-то выразит себя молчание земли? Сейчас я все возвращаюсь к ней, говоря: мама, я пришел к ним от тебя и записал ясным языком то, что ты повелела мне, а они взяли написанное и завернули в него свою селедку. Я сожалею о них и о самом себе.
А земля, по своему обыкновению, будет молчать.
Трава вырастет и увянет, царства будут воздвигнуты и падут, страны будут населены и понесут потери, любови расцветут и прекратятся, женщины будут любимы и брошены, звезды загорятся и потухнут, пророков сделают святыми и убьют. А земля, по своему вечному обыкновению, будет молчать молчанием.
Сейчас полночь. Я ступаю по покинутым улицам. И я понимаю, насколько случайно то, что я ступаю по земле, вместо того, чтобы быть заключенным в глубине ее чрева. Но с каждым шагом мне кажется, что в этом месте я заключен — тяжелый, молчащий и мертвый.
Наверху, наверху парят легкие и прозрачные облака, а над ними светит луна. Нежен и красив лунный свет, но он не что иное, как свет, одолженный у солнца. И таков же свет лица любимой, и свет всего прекрасного в мире, и свет всех вещей — не что иное, как одолженный свет души.
А свет души — это не что иное, как одолженный свет Всевышнего.
Однажды ночью, когда я был в армии, на привале в поле я услышал издалека, со стороны деревни, голос коровы, которая печально мычала не переставая.
Это был единственный раз, когда мне послышалось нечто похожее на голос земли. И тогда я подумал в сердце своем: вот, даже земля ничего не знает о Всевышнем, как женщина, которая ничего не знает о своем муже. Вообще нет никого, кто знает что-то о Всевышнем.
Только из-за сердечных страданий и тоски я чувствую Его бытие. И это все.
И из-за небытия вещей: из-за того, что Он обязательно должен быть, поскольку ничего иного нет.
СПРАВКА

Пинхас Саде (1929, Львов, Польша — 1994, Иерусалим, Израиль) — израильский поэт и прозаик. «Жизнь как притча» — его первая книга прозы (1958). Это автобиографический роман-исповедь, основанный на размышлениях и беседах автора с самим собой и с Богом. Он стал одним из предвестников современной литературы на иврите. Поначалу она была неоднозначно принята критикой, так как шла вразрез с господствующими ценностями того времени и сионистским реализмом в литературе. Автор предстает как индивидуалист, экстраверт и нонконформист, в одиночку занимающийся познанием Бога, ставя при этом под сомнение постулаты иудаизма и проявляя симпатию к христианству и ницшеанству. Однако со временем роман стал культовым, в 60–70-е годы он оказал сильное влияние на умы молодежи. Литературный критик, поэт и публицист Менахем Бен назвал ее лучшей прозаической книгой в израильской литературе. На русский язык роман «Жизнь как притча» не переводился.